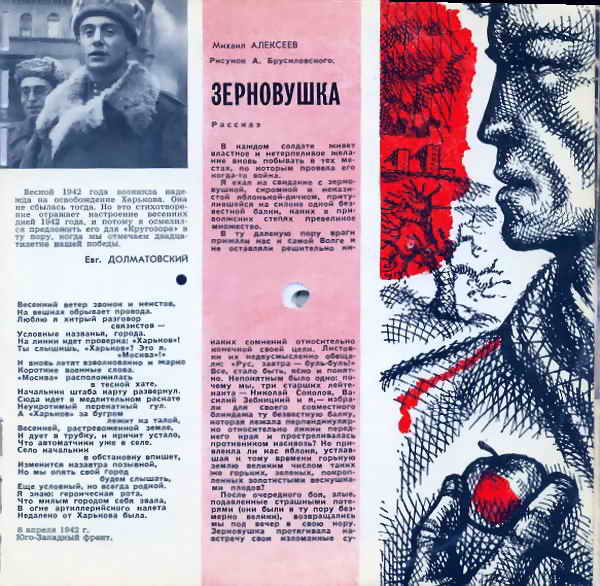
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| обл.3 |
|
|
|
Весной 1942 года возникла надежда на освобождение Харькова. Она не
сбылась тогда. Но это стихотворение отражает настроение весенних дней
1942 года, и потому я осмелился предложить его для 'Кругозора' в ту
пору, когда мы отмечаем двадцатилетие нашей победы.
На вешках обрывает провода.
Люблю я хитрый разговор связистов -
Условные названья, города.
На линии идёт проверка: 'Харьков'!
Ты слышишь, 'Харьков'? Это я, 'Москва'!'
И вновь летят взволнованно и жарко
Короткие военные слова.
'Москва' расположилась в тесной хате,
Начальник штаба карту развернул.
Сюда идёт в медлительном раскате
Неукротимый перекатный гул.
А 'Харьков' за бугром лежит на талой,
Весенней, растревоженной земле,
И дует в трубку, и кричит устало,
Что автоматчики уже в селе.
Село начальник в обстановку впишет,
Изменится назавтра позывной,
Но мы опять свой город будем слышать,
Ещё условный, но всегда родной.
Я знаю: героическая рота,
Что милым городом себя звала,
В огне артиллерийского налёта
Недалеко от Харькова была.
|
Михаил АЛЕКСЕЕВ
Рисунок А.Брусиловского.
ЗЕРНОВУШКА
Рассказ
В каждом солдате живёт властное и
нетерпеливое желание вновь побывать в тех местах, по которым провела
его когда-то война.
Я ехал на свидание с зерновушкой,
скромной и неказистой яблонькой-дичком, притулившейся на склоне
одной безвестной балки, каких в приволжских степях превеликое
множество.
В ту далёкую пору враги прижали нас к
самой Волге и не оставляли решительно никаких сомнений относительно
конечной своей цели. Листовки их недвусмысленно обещали: 'Рус,
завтра - буль-буль!' Всё, стало быть, ясно и понятно. Непонятным
было одно: почему мы, три старших лейтенанта - Николай Соколов,
Василий Зебницкий и я, - избрали для своего совместного блиндажа ту
безвестную балку, которая лежала перпендикулярно относительно линии
переднего края и простреливалась противником насквозь? Не привлекла
ли нас яблоня, устлавшая к тому времени горькую землю великим числом
таких же горьких, зелёных, покроплённых золотистыми веснушками
плодов?
После очередного боя, злые,
подавленные страшными потерями (они были в ту пору безмерно велики),
возвращались мы под вечер в свою нору. Зерновушка протягивала
навстречу свои изломанные сучья, которых день ото дня становилось на
ней всё меньше и меньше. Мы собирали сшибленные сучья, топили ими
свою 'буржуйку'; сучья разгорались не вдруг, долго шипели, из них
красной живой кровью струился сок. |